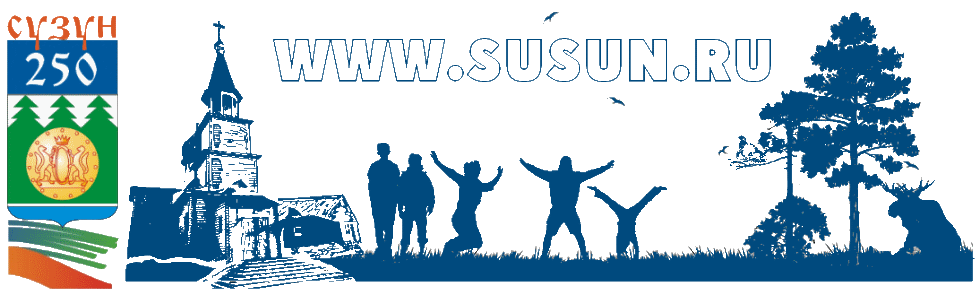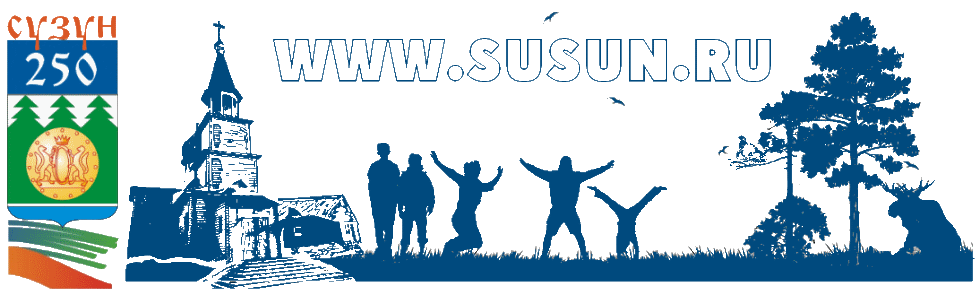Cветлана Алексиевич (р. 1948) — белорусская писательница, журналистка.
Закончила факультет журналистики БелГУ. Работала в «Сельской газете»,
в журнале «Неман».С начала 2000-х гг. живёт в Италии,
Франции, Германии. Еще раз убедилась, что наша память - далеко не идеальный инструмент.
Она не только произвольна и капризна, она еще на цепи у времени, как собака.
Люди влюблены в то, что с ними было, потому что это не только война, но и их
молодость тоже.
Понимаю, что плач и крик нельзя подвергать обработке, иначе главным
будет не плач и не крик, а обработка. Вместо жизни останется литература.
Таков материал, температура этого материала. Постоянно зашкаливает. Человек
больше всего виден и открывается на войне и еще, может быть, в любви.
До самых глубин, до подкожных слоев. Перед лицом смерти все идеи бледнеют, и
открывается непостижимая вечность, к чему они сами бывают не готовы. Хотя
это было с ними, они это пережили. Несколько раз я получала отосланный на
читку текст с припиской:
«О мелочах не надо... Пиши о нашей великой Победе...»
А «мелочи» - это то, что для меня главное - теплота и ясность жизни:
оставленный чубчик вместо кос, горячие котлы каши и супа, которые
некому есть- из ста человек вернулось после боя семь; или то, как не могли
ходить после войны на базар и смотреть на красные мясные ряды... Даже на
красный ситец...
«Ах, моя ты хорошая, уже сорок лет прошло, а в моем доме ты
не найдешь ничего красного. Я ненавижу после войны красный цвет!»
 «Последние свидетели: сто недетских колыбельных». Дети войны рассказывают о войне. Женя Белькевич, 6 лет:
«Я запомнила… Я была совсем маленькая, но я все запомнила…
Июнь сорок первого года… Последнее, что я запомнила из мирной жизни – сказку, мама читала ее на ночь. Мою любимую – о Золотой рыбке.
Я всегда у Золотой рыбки тоже что-нибудь просила: “Золотая рыбка… Миленькая золотая рыбка…” И сестричка просила. Она просила по-другому:
“По щучьему велению, по моему хотению…” Хотели, чтобы мы поехали на лето к бабушке, и чтобы папа с нами поехал. Он такой веселый…
Утром проснулась от страха… От каких-то незнакомых звуков… Мама с папой думали, что мы спим, а я лежала рядом с сестричкой и притворялась,
что сплю. Видела: папа долго целовал маму, целовал лицо, руки, а я удивлялась, что никогда раньше он так ее не целовал. Во двор они вышли,
держась за руки, я подскочила к окну – мама повисла у папы на шее и не отпускала его. Он оторвал ее от себя и побежал, она догнала и снова
не пускает и что-то кричит. Тогда я тоже закричала: “Папа! Папа!” Проснулись сестричка и братик Вася, сестричка смотрит, что я плачу,
и она закричала: “Папа!” Выскочили мы все на крыльцо: “Папа!!” Отец увидел нас и, как сейчас помню, закрыл голову руками и пошел, даже побежал.
Он оглянуться боялся…
Солнце светило мне в лицо. Так тепло… И теперь не верится, что мой отец в то утро уходил на войну. Я была совсем маленькая, но мне кажется,
я сознавала, что вижу его в последний раз. Больше никогда не встречу. Я была совсем… Совсем маленькая… Так и связалось у меня в памяти,
что война – это когда нет папы… А потом помню: черное небо и черный самолет. Возле шоссе лежит наша мама с раскинутыми руками. Мы просим ее
встать, а она не встает. Не поднимается. Солдаты завернули маму в плащ-палатку и похоронили в песке, на этом же месте. Мы кричали и просили:
“Не закапывайте нашу мамку в ямку. Она проснется, и мы пойдем дальше”.
По песку ползали какие-то большие жуки… Я не могла представить, как мама будет жить под землей с ними. Как мы ее потом найдем,
как мы встретимся? Кто напишет нашему папе?» Катя Коротаева, 14 лет:
«Минск стали бомбить…Сначала горели отдельные дома, потом загорелся город. Мы любим смотреть на огонь, но нам страшно, когда горит дом,
а здесь огонь шел с двух сторон, небо и улицы застилал дым. Был животный страх перед этим огнем. Мы бежали… Помню три открытых кона в
каком-то деревянном доме, на подоконниках роскошные филокактусы… Людей в этом доме уже нет, только кактусы цветут… Было такое чувство,
что это не красные цветы, а красный огонь. И я стояла и не могла понять, почему не загораются белые занавески на окнах…
По дороге в деревнях нас кормили хлебом и молоком, больше ничего у людей не было. А у нас не было денег. Я ушла из дома в платочке,
а мама почему-то выбежала в зимнем пальто и в туфлях на высоких каблуках. Нас кормили так, никто о деньгах и не заикался. Беженцы шли толпами…
Потом кто-то первый передал, что дорога впереди перерезана немецкими мотоциклистами. Мимо тех же деревень, мимо тех же теток с крынками
молока мы бежали назад. Прибежали на нашу улицу… Еще несколько дней назад тут была зелень, тут были цветы, а сейчас все выжжено.
Даже от столетних лип ничего не осталось. Все было выжжено до желтого песка. Куда-то исчез чернозем, на котором все росло, только желтый-желтый песок…
Один песок… Будто стоишь возле свежевыкопанной могилы…
Остались заводские печи, они были белые, прокалились в сильном пламени. Больше ничего знакомого… Сгорела вся улица. Сгорели бабушки и дедушки,
и много маленьких детей, потому что они не убежали вместе со всеми, думали – их не тронут. Огонь никого не пощадил.
Идешь – лежит черный труп, значит, старый человек сгорел. А увидишь издали что-то маленькое, розовое, значит, ребенок. Они лежали на углях розовые…
Мама сняла с себя платок и завязала мне глаза… Так мы дошли до нашего дома, до того места, где несколько дней назад стоял наш дом. Дома не было.
Нас встретила чудом спасшаяся наша кошка. Она прижалась ко мне, и все. Никто из нас не мог говорить… Кошка не мяукала, даже кошка несколько дней молчала.
Мы все молчали.
А сирень так цвела в том году… А черемуха так цвела…»  



Женя Селеня, 5 лет:
«Через два дня, наверное, к нам на хутор зашла группа красноармейцев. Запыленные, потные, с запекшимися губами, они жадно пили воду из колодца.
И как же они ожили… Как просветлели их лица, когда в небе появилось четыре наших самолета. На них мы заметили такие четкие красные звезды.
“Наши! Наши!” – кричали мы вместе с красноармейцами.
Но вдруг откуда-то вынырнули маленькие черные самолеты, они крутились вокруг наших, что-то там трещало, гремело. Это как, знаете…
Кто-то рвет клеенку или полотно… Но звук громче… Я еще не знал, что так издали или с высоты трещат пулеметные очереди. За падающими нашими
самолетами потянулись красные полосы огня и дыма. Бабах! Красноармейцы стояли и плакали, не стесняясь своих слез. Я первый раз видел… Первый раз…
Чтобы красноармейцы плакали… В военных фильмах, которые я ходил смотреть в наш поселок, они никогда не плакали.
А потом… Потом… Еще через несколько дней… Из деревни Кабаки прибежала мамина сестра – тетя Катя. Черная, страшная. Она рассказала, что в их деревню
приехали немцы, собрали активистов и вывели за околицу, там расстреляли из пулеметов. Среди расстрелянных был и мамин брат, депутат сельского Совета.
Старый коммунист.
До сих пор помню слова тети Кати: – Они ему разбили голову, и я руками мозги собирала… Они белые-белые…
Она жила у нас два дня. И все дни рассказывала… Повторяла…
За эти два дня у нее побелела голова. И когда мама сидела рядом с тетей Катей, обнимала ее и плакала, я гладил ее по голове.
Боялся. Я боялся, что мама тоже станет белая…» Нина Рачицкая, 7 лет:
«Вспоминаются какие-то отрывки… Иногда – очень ярко… Как немцы приехали на мотоциклах… А мы спрятались… У меня еще было два маленьких братика
– четыре и два года. Мы с ними спрятались под кровать и весь день просидели там. Пока они не перестали тарахтеть…
Я очень удивилась, что молодой фашистский офицер, который стал жить у нас, был в очках. А я себе представляла, что в очках ходят только учителя.
Он жил с денщиком в одной половине дома, а мы – в другой.
Братик, самый маленький, у нас простыл и сильно кашлял. У него была большая температура, он весь горел, плакал ночами. Наутро офицер заходит
на нашу половину и говорит маме, что если киндер будет плакать, не давать ему спать по ночам, то он его “пуф-пуф” – и показывает на свой пистолет.
Ночью, как только брат закашляет или заплачет, мать хватает его в одеяло, бежит на улицу и там качает, пока он не заснет или не успокоится. Пуф-пуф…
Забрали у нас все, мы голодали. На кухню не пускали, варили они там только себе. Брат маленький, он услышал запах и пополз по полу на этот запах.
А они каждый день варили гороховый суп, очень слышно, как пахнет этот суп. Через пять минут раздался крик моего брата, страшный визг.
Его облили кипятком на кухне, облили за то, что он просил есть.
А он был такой голодный, что подойдет к маме: “Давай сварим моего утенка”. Утенок у него был самой любимой игрушкой, он никому его раньше в руки
не давал. Спал с ним.
Наши детские разговоры… Сядем и рассуждаем: если словить мышь (а их в войну развелось много – и в доме, и в поле), можно ли ее съесть?
Едят ли синичек? Едят ли сорок? Почему мама не сварит суп из жирных жуков?
Не давали вырасти картошке, лазили в землю руками и проверяли: большая она или маленькая? И почему все так медленно растет: и кукуруза, и подсолнухи…
В последний день… Перед своим отступлением немцы подожгли наш дом. Мама стояла, смотрела на огонь, и у нее ни слезинки на лице.
А мы втроем бегали и кричали: “Домик, не гори! Домик, не гори!” Вынести из дома ничего не успели, я только схватила свой букварь.
Всю войну я спасала его, берегла. Спала с ним, он у меня всегда под подушкой. Очень хотела учиться. Потом, когда мы в сорок четвертом году пошли в
первый класс, мой букварь был один на тринадцать человек. На весь класс.»
Вася Сигалев-Князев, 6 лет:
«Через некоторое время тоже рано утром пришли немцы и забрали нас с мамой. Поставили нас на площади перед заводом, а на этом заводе работал
до войны наш отец (это в поселке Смоловка Витебской области). Стояли мы и еще две партизанские семьи, детей было больше, чем взрослых.
А у мамы, все знали, большая родня: пятеро братьев и пятеро сестер, и все они в партизанах.
Маму начали бить, весь поселок смотрел, как ее били, и мы. Какая-то женщина все пригибала мою голову к земле:
„Опусти глаза. Опусти глаза…“ А я выворачивался из ее рук. Я смотрел…
За поселком был пригорок лесистый, детей оставили, а взрослых повели туда. Я цеплялся за маму, она отталкивала меня и кричала:
„Прощайте, дети!“
Помню, как от ветра поднялось мамино платье, когда она летела в траншею…»
Геня Завойнер, 7 лет:
«Стоим с мамой у проволоки, мимо идет красивая женщина. Она остановилась возле нас по ту сторону и говорит маме: “Как мне вас жалко”.
Мама ей отвечает: “Если вам жалко, возьмите мою дочь к себе”. “Хорошо”, – задумывается женщина. Остальное они договаривают шепотом...
...Привезли на хутор, посадили на длинную лавку. В этой семье, куда я попала, было четверо детей. И они взяли еще и меня. Я хочу, чтобы
все знали фамилию женщины, которая меня спасла, – Олимпия Пожарицкая из деревни Геневичи Воложинского района. Страх в этой семье жил столько
времени, сколько я там жила. Их могли расстрелять в любую минуту… Всю семью. И четверо детей… За то, что они укрывают еврейского ребенка.
Из гетто. Я была их смертью…
Это какое надо иметь великое сердце! Нечеловеческое человеческое сердце…
Появлялись немцы, меня сразу куда-нибудь отправляли. Лес был рядом, лес спасал. Женщина эта меня очень жалела, она жалела одинаково своих детей
и меня. Если она что-то давала, то давала всем, если она целовала, то целовала всех. И гладила всех одинаково. Я называла ее “мамуся”.
Где-то у меня была мама, а здесь мамуся… Когда к хутору подошли танки, я пасла коров, увидела танки и спряталась. Мне не верилось, что танки наши,
но когда различила на них красные звезды, вышла на дорогу. С первого танка соскочил военный, подхватил меня на руки и высоко-высоко поднял.
Тут прибежала хозяйка хутора, она была такая счастливая, такая красивая, ей так хотелось чем-то хорошим поделиться, сказать, что они тоже что-то
сделали для этой победы. И она рассказала, как они меня спасли. Еврейскую девочку… Этот военный прижал меня к себе, а я была тоненькая-тоненькая,
и спряталась у него под рукой, и он обнял эту женщину, он обнял ее с таким лицом, как будто она ему дочь спасла. Он говорил, что у него все погибли,
вот кончится война, он вернется и заберет меня в Москву. А я ни за что не соглашалась, хотя не знала – жива моя мама или нет?
Прибежали другие люди, они тоже обнимали меня. И все признавались, что догадывались,
кого прячут на хуторе. Потом приехала за мной мама… Она вошла во двор и стала перед этой женщиной и ее детьми на колени…»
 



Саша Суетин, 4 года:
«Дальше ничего не помню: кто и как нас спасал в немецком концлагере? У детей там брали кровь для раненых немецких солдат… Дети все умирали…
Как оказались мы с братом в детдоме, и в конце войны получили извещение, что родители наши погибли? Что-то случилось с моей памятью.
Не помню лиц, не помню слов…
Кончилась война. Я пошел в первый класс. Другие два-три раза прочтут стихотворение – и запомнили. А я десять раз прочту и не запоминаю.
Но двойки мне учителя почему-то не ставили.
Другим ставили, а мне нет.»
Валя Юркевич, 7 лет:
«Следом за бабушкой однажды утром увели сестру. Перед этим несколько немцев ходили по бараку и переписывали детей, выбирали красивых,
обязательно беленьких. У сестры были белые кудри и голубые глаза. Записывали не всех, именно таких. Меня не взяли, я была черненькая.
Немцы гладили сестру по головке, она им очень нравилась.Сестру уводили с утра, а возвращали вечером. С каждым днем она таяла. Мама ее расспрашивала,
но она ничего не рассказывала. Или их напугали, или им что-то там давали, какие-нибудь таблетки, но она ничего не помнила. Потом мы узнали,
что у них брали кровь. Крови, видно, брали много, через несколько месяцев сестра умерла.
Она умерла утром, когда пришли снова за детьми, она уже была мертвая. Бабушку я очень любила, потому что всегда оставалась с ней, когда папа с мамой
уходили на работу. Но мы не видели ее смерти и все надеялись, что она жива. А смерть сестры была рядом… Она лежала, как живая… Лежала красивая…»
Валя Кожановская,10 лет:
«Привезли в концлагерь. Там мы увидели: на соломе сидят детки, а по ним ползают вши. Солому возили с полей, которые начинались
сразу за колючей проволокой с током.Каждое утро стучал железный засов, входили смеющиеся офицер и красивая женщина, она по-русски нам говорила:
– Кто хочет каши, быстро становитесь по двое в ряд. Поведем вас кормить…
Дети спотыкались, толкались, каши хотели все.
– Надо только двадцать пять человек, – пересчитывала женщина. – Не ссорьтесь, остальные подождите до завтра.
Я вначале верила, вместе с маленькими бежала, толкалась, а потом стала бояться:
“Почему не возвращаются те, которых уводят кормить кашей?” Садилась под самую железную дверь при входе, и, когда нас уже было мало,
женщина все равно меня не замечала. Она всегда стояла и считала ко мне спиной.
Как долго это продолжалось, не скажу. Мне кажется… я тогда потеряла память…
Ни одной птицы и даже жука я в концлагере не видела. Мечтала: найти хотя бы червяка. Но они там не жили…»
Леонид Сиваков, 6 лет:
«.. Уже солнышко взошло… Пастухи собирали коров. Каратели дали время выгнать стадо за речушку Грезу и стали ходить по хатам.
Заходили со списком и по списку расстреливали. Читают: мать, дед, дети такие-то, по стольку лет… Проследят по списку, если одного нет,
начинают искать. Под кроватью ребенка найдут, под печкой… Когда всех найдут, тогда стреляют…
У нас в хате собралось шесть человек: бабушка, мама, старшая сестра, я и два младших братика. Шесть человек… Увидели в окно, как они пошли к соседям,
побежали в сени с братиком самым маленьким, закрылись на крючок. Сели на сундук и сидим возле мамы. Крючок слабенький, немец сразу оторвал.
Через порог переступил и дал очередь. Я разглядеть не успел: старый он или молодой? Мы все попадали, я завалился за сундук…
Первый раз пришел в сознание, когда услышал, что на меня что-то капает… Капает и капает, как вода. Поднял голову: мамина кровь капает, мама лежит убитая.
Пополз под кровать, все залито кровью… Я в крови, как в воде… Мокрый…
Слышу: заходят двое. Пересчитывают: сколько убитых. Один говорит: “Тут одного не хватает. Надо искать”. Стали они искать, нагнулись под кровать,
а там мама припрятала мешок жита, а за ним я лежу. Вытянули они мешок и пошли довольные. Забыли, что одного по списку не досчитались. Они ушли,
я потерял сознание… Второй раз пришел в себя, когда загорелась наша хата… Мне стало невыносимо жарко и тошнота такая. Вижу, что в крови, а не понимаю,
что я раненый, боли не чувствую. Полная хата дыма… Как-то я выполз в огород, потом к соседу в сад. И только тут почувствовал, что у меня ранена нога и
перебита рука. Боль ударила! Какое-то время опять ничего не помню…
Третий раз вернулось сознание, когда услышал страшный женский голос… Мычали телята. Пищали свиньи, кричали и горели раненые куры…
А людских голосов не слышно… Один этот крик… Я пополз на него… Крик висел и висел в воздухе. Кто-то кричал так, что, мне казалось, он не останавливается.
Полз по этому крику, как по ниточке, и приполз к колхозному гаражу. Никого не вижу… Крик откуда-то из-под земли идет… Тогда я догадался, что кто-то кричит
из смотровой ямы… Из глубины…
Встать я не мог, подполз к яме и перегнулся вниз… Полная яма людей… Это все были смоленские беженцы, они у нас жили в школе. Семей двадцать. Все лежали в яме,
а наверху поднималась и падала раненая девочка. И кричала. Я оглянулся назад: куда теперь ползти? Уже горела вся деревня… И никого живого… Одна эта девочка…
Я упал к ней… Сколько лежал, не знаю… Слышу – девочка мертвая. И толкну, и позову – не отзывается. Один я живой, а они все мертвые. Солнце пригрело,
от теплой крови пар идет. Закружилась голова…
Лежал так долго, то есть сознание, то его нет. В пятницу нас расстреляли, а в субботу приехали из другой деревни дедушка и мамина сестра. Они нашли меня в яме,
положили на тачку. Тачка подскакивает, мне больно, я хочу кричать, а у меня нету голоса. Я мог только плакать… Долго не разговаривал. Долго… Семь лет…
Что-то немного шептал, но никто не мог разобрать моих слов. Через семь лет стал одно слово выговаривать хорошо, второе… Сам себя слушал…
Там, где был наш дом, дедушка собрал в корзинку косточки. Полной корзинки даже не было…
Вот рассказал вам… И это все? Все, что осталось от такого ужаса? Несколько десятков слов… Звуки…»
 



Вера Ждан, 14 лет:
« Я боюсь мужчин… Это у меня с войны…
Нас взяли под автоматы и повели, повели в лес. Нашли поляну. “Нет, – крутит головой немец. – Не тут…” Повели дальше. Полицаи говорят:
“Роскошь положить вас, партизанских бандитов, в таком красивом месте. Положим в грязи”. Выбрали самое низкое место, там всегда стояла вода.
Дали отцу и брату лопаты копать яму. А нас с мамой под деревом поставили смотреть. Мы смотрели, как они выкопали яму, брат последний раз лопатой кинул:
“Эх, Верка!..” Ему шестнадцать лет было… Шестнадцать… Ну, только-только…
Мы с мамой смотрели, как их расстреливали… Нельзя было отвернуться и закрыть глаза. Полицаи следили…
Брат упал не в яму, а перегнулся от пули и вперед ступил, сел возле ямы. Сапогами спихнули его в яму, в грязь. И больше всего страшно было уже не то,
что их постреляли, а то, что в липучую грязь положили. В воду.
Поплакать нам не дали, погнали в деревню. А их даже землею сверху не присыпали. Два дня плакали мы с мамой. Плакали тихо, дома. На третий день приходят
тот же немец и два полицая: “Собирайтесь хоронить своих бандитов”.
Мы пришли на то место, они в яме плавают, там колодец уже, а не могила. Лопаты мы свои взяли, прикапываем и плачем. А они говорят:
“Кто будет плакать, того будем стрелять. Улыбайтесь…”
Они заставляли нас улыбаться… Я нагнусь, он подходит и в лицо заглядывает: улыбаюсь я или плачу? Стоят…
Все молодые мужчины, красивые… Сами улыбаются… Дикий страх обнял мое сердце, я уже не мертвых, я этих, живых, испугалась.
С того времен боюсь молодых мужчин. Всю жизнь одна живу… Замуж не вышла… Любви не узнала… Боялась: а вдруг рожу мальчика?..» Фаина Люцко, 15 лет:
«Помню, что каратели черные все, черные… С высокими фуражками… У них даже собаки были черные. Блестели. Мы жались к матерям… Они не всех убивали,
не всю деревню. Они взяли тех, кто справа стоял. На правой стороне. И мы с мамой там стояли…
Нас разделили: детей – отдельно, а наших родителей – отдельно. Мы поняли, что они родителей будут сейчас расстреливать, а нас оставят.
Там была моя мама… А я не хотела жить без мамы… Я просилась к ней и плакала. Как-то меня пропустили…
А она, как увидела… Как закричит: – Это не моя дочь!
– Мамочка! Ма…
– Это не моя дочь! Не моя дочь! Не моя-а-а…
– Ма-а-амочка!!
Глаза у нее не слез были полны, а крови. Полные глаза крови…
– Это не моя дочь!!
Куда-то меня оттащили… И я видела, как сначала стреляли в детей. Стреляли и смотрели, как родители мучаются.
Расстреляли двух моих сестер и двоих братьев. Когда убили детей, стали убивать родителей. Маму я уже не увидела… Мама, наверное, упала…
Стояла женщина, держала на руках грудного ребеночка, он сосал водичку из бутылочки. Они выстрелили сначала в бутылочку, потом в ребенка…
А потом только мать убили…»
Леонида Белая, 3 года:
«. …Куда-то бежим… Роса холодная. У бабушки мокрая юбка до пояса, а у меня и платье мокрое и головка. В лесу прячемся,
я сохну в бабушкином пиджаке, платье сушится.Кто-то из соседей залез на дерево. Я слышу: “Горит… Горит… Горит…” Одно слово…
…Возвращаемся в деревню. Вместо хат – черные головешки. Там, где жили наши соседи, находим гребешок. Я узнаю этот гребешок,
соседская девочка, ее звали Анютка, меня им расчесывала. Мама не может мне ответить, где она и где ее мама? Почему они не возвращаются?
Моя мама держится за сердце.Ночью засовываем ноги в золу, чтобы согреться и заснуть. Зола теплая, мягкая…»
Галина Фирсова, 10 лет:
« Иду из булочной… Получила дневной паек. Эти крохи, эти жалкие граммы… А навстречу мне бежит собака. Поравнялась со мной и обнюхивает –
слышит запах хлеба. Я понимала, что это – наше счастье. Эта собака… Наше спасение!!
Я приведу собаку домой… Дала ей кусочек хлеба, и она за мной пошла. Возле дома еще кусочек ей отщипнула, она лизнула мне руку. Вошли в наш подъезд…
Но по ступенькам она поднималась неохотно, на каждом этаже останавливалась. Я отдала ей весь наш хлеб… Кусочек за кусочком… Так добрались мы до
четвертого этажа, а наша квартира на пятом. Тут она уперлась и не идет дальше. Смотрит на меня… Как что-то чувствует. Понимает.
Я ее обнимаю: “Собака миленькая, прости… Собака миленькая, прости…” Прошу ее, упрашиваю… И она пошла…
Очень хотелось жить… В Ленинграде много памятников, но нет одного, который должен быть. О нем забыли. Это – памятник блокадной собаке.
Собака миленькая, прости…»
Аня Грубина, 12 лет:
«Я знаю, что человек может есть все. Люди ели даже землю… На базарах продавали землю с разбитых и сгоревших Бадаевских продовольственных складов,
особенно ценилась земля, на которую пролилось подсолнечное масло, или земля, пропитанная сгоревшим повидлом. Та и другая стоили дорого.
Наша мама могла купить самую дешевую землю, на которой стояли бочки с селедкой, эта земля только пахла солью, а соли в ней было мало.
Один запах селедки. А ленинградские парки были бесплатные, и их быстро объедали. Радоваться цветам… Просто радоваться… Я научилась не так давно…
Через десятки лет после войны…»  



Юра Карпович, 8 лет:
«Я видел то, что нельзя видеть… Человеку нельзя. А я был маленький…
Я видел, как солдат бежит и как будто спотыкается. Падает. Долго царапает землю, обнимает ее…
Я видел, как гнали через деревню наших военнопленных. Длинные колонны. В рваных и обожженных шинелях. Там, где они стояли ночью,
была обгрызена кора с деревьев. Вместо еды им забрасывали дохлую лошадь… Они рвали ее…
Я видел, как ночью пошел под откос и сгорел немецкий эшелон, а утром положили на рельсы всех тех, кто работал на железной дороге,
и пустили по ним паровоз…
Я видел, как запрягали в брички людей. У них были желтые звезды на спине… Их погоняли кнутами. Весело катались…
Я видел, как у матерей штыками выбивали из рук детей. И бросали в огонь. В колодец… А до нас с мамой очередь не дошла…
Я видел, как плакала соседская собака. Она сидела на золе соседской хаты. Одна… У нее были глаза старого человека…
А я был маленький… Я вырос с этим…
Прошло много лет… Теперь я хочу спросить: а смотрел ли на это Бог? И что он думал…»
Олег Болдырев,8 лет:
«Мне исполнилось десять лет, и отец все-таки взял меня к себе. Привел в свой третий цех. На участок, где сваривали
взрыватели для бомб.Работали мы втроем: я, Олег и Ванюшка, они всего-то на два года постарше меня. Собирали взрыватель,
а Яков Миронович Сапожников (фамилия врезалась в память), отличный мастер своего дела, его сваривал. Потом надо было подняться
на ящик, чтобы дотянуться до тисков, зажать муфту взрывателя и воротом с метчиком откалибровать внутреннюю резьбу муфты.
Делать это мы наловчились… Быстро… А дальше и того проще: вставить пробку и – в ящик. Как полный наберется – на место его.
Под погрузку. Тяжеловатый, правда, до пятидесяти килограммов весом, но вдвоем управлялись...
Если Яков Миронович видел, что есть хоть малая возможность дать нам передышку, командовал: – Марш в электродный! Уговаривать
не приходилось: не было на всем заводе уголка уютнее и теплее, чем тот, где сушили горячим воздухом электроды.
Забравшись на теплую деревянную полку, мгновенно засыпали. А минут через пятнадцать приходил в электродный Яков Миронович, будил.
Однажды я проснулся раньше, чем он начал побудку. Вижу: дядя Яша смотрит на нас… Тянет минуты… И слезы рукавом вытирает…»
Володя Парабкович, 12 лет:
«...Нам выдали бескозырки с надписью “Школа юнг ВМФ”, но, к нашему сожалению, не с длинными конами на плечах, а с бантиком
на правой стороне. Вручили винтовки. В начале сорок третьего… Я попал для прохождения службы на гвардейский эсминец “Сообразительный”.
Для меня все было впервые: гребни волн, в которые зарывался носом корабль, “фосфорная” дорожка от гребных винтов, старательно
перелопачивающих соленую морскую воду… Перехватывало дыхание…
– Страшно, сынок? – спросил командир.
– Нет, – не задумался я ни на секунду. – Красиво!
– Если бы не война, было бы красиво, – сказал командир и почему-то отвернулся.
Мне было четырнадцать лет…»
Володя Коршук, 7 лет:
«В десять лет пошел в первый класс. Но я был большой и умел читать, через полгода меня перевели во второй класс.
Читать я умел, а писать нет. Вызвали к доске, надо было написать слово с буквой “у”. Я стоял и с ужасом думал,
что не знаю, как пишется буква “у”. А стрелять уже умел… Хорошо стрелял…
В один из дней я не нашел в шкафу отцовский пистолет, перевернул весь шкаф – пистолета не было.
– Как же так, что ты теперь будешь делать, – спросил я отца, когда он вернулся с работы.
– Я буду учить детей, – отвечал он.
Я растерялся… Я думал, что работа – это только война…»  



Зина Косяк, 8 лет:
«В сорок первом… Я окончила первый класс, и родители отвезли меня на лето в пионерский лагерь Городище под Минском. Приехала,
один раз искупалась, а через два дня – война. Нас начали отправлять из лагеря. Посадили в поезд и повезли... Нам рассказали,
что Минск горел, сгорел весь, там уже немцы, а мы едем в тыл. Едем туда, где нет войны.
Везли больше месяца. Направят в такой-то город, прибудем по адресу, а оставить нас не могут, потому что уже близко немцы.
И доехали так до Мордовии.Место очень красивое, там кругом стояли церкви. Дома низкие, а церкви высокие. Спать было не на чем,
спали на соломе. Когда пришла зима, на четверых были одни ботинки. А потом начался голод. Голодал не только детдом, голодали и люди
вокруг нас, потому что все отдавали фронту. В детдоме жило двести пятьдесят детей, и однажды – позвали на обед, а есть вообще нечего.
Сидят в столовой воспитательницы и директор, смотрят на нас, и глаза у них полные слез...
Ходили мы с огромными животами, я, например, могла съесть ведро супа, потому что в этом супе ничего не было. Сколько мне будут
наливать, столько я буду есть и есть. Спасала нас природа, мы были как жвачные животные. Весной в радиусе нескольких километров…
Вокруг детдома… Не распускалось ни одно дерево, потому что съедались все почки, мы сдирали даже молодую кору. Ели траву, всю подряд ели.
Нам дали бушлаты, и в этих бушлатах мы проделали карманы и носили с собой траву, носили и жевали. Лето нас спасало, а зимой становилось
очень тяжело.Маленьких детей, нас было человек сорок, поселили отдельно. По ночам – рев. Звали маму и папу. Воспитатели и учителя
старались не произносить при нас слово “мама”. Они рассказывали нам сказки и подбирали такие книжки, чтобы там не было этого слова.
Если кто-то вдруг произносил “мама”, сразу начинался рев. Безутешный рев.В третьем классе я удрала из детдома. Пошла искать маму.
Голодную и обессиленную в лесу меня нашел дедушка Большаков. Узнал, что я из детдома, и забрал к себе в семью. Жили они вдвоем с бабушкой.
Я окрепла и стала помогать им по хозяйству: траву собирала, картошку полола, – все делала. Ели мы хлеб, но это был такой хлеб, что в нем
было мало хлеба. Он – горький. В муку намешивали все, что мололось: лебеду, цветы ореха, картошку. Я до сих пор не могу спокойно смотреть
на жирную траву и ем много хлеба. Никак не могу его наесться… За десятки лет…
Всю войну я говорила и ждала, что, когда кончится война, мы запряжем с дедушкой лошадь и поедем искать маму. В дом заходили эвакуированные,
я у всех спрашивала: “Не встречали ли они мою маму?” ...
Война кончилась… Жду день, два, за мной никто не едет. Мама за мной не едет, а папа, я знала, в армии. Прождала я так две недели, больше
ждать не было сил. Забралась в какой-то поезд под скамейку и поехала… Куда? Не знала. Я думала (это же детское сознание еще), что все поезда
едут в Минск. А в Минске меня ждет – мама! Потом приедет наш папа… Герой! С орденами, с медалями...
Они пропали где-то под бомбежкой… Соседи потом рассказывали – поехали вдвоем искать меня. Побежали на станцию…
Мне уже пятьдесят один год, у меня есть свои дети. А я все равно хочу маму…»
Поля Пашкевич, 4 года:
«В детдоме все ждали родителей, что они придут и заберут домой. Появлялся незнакомый мужчина или незнакомая женщина, все бежали к ним и кричали:
– Мой папа… Моя мама…
– Нет, это мой папа!
– За мной пришли!
– Нет, это за мной пришли!!
Очень завидовали тем, кого родители находили. А они не давали подойти к своим мамам и папам: „Не трогай, это моя мама“ или: „Не трогай, это мой папа“.
Они не отпускали их от себя ни на минуту, боялись, чтобы кто-нибудь не отнял. Или от страха: вдруг опять куда-нибудь уйдут...
Была у нас одна молодая учительница, а остальные пожилые женщины, так все ее очень любили. Боготворили. Уроки не начинались, пока она не приходила в школу.
Сидим у окна и ждем: „И-идет!! И…и…и…“ Она входила в класс, и каждый хотел ее потрогать, каждый думал: „Вот такая моя мама…“»
Ваня Титов, 5 лет:
«И в войну, и после войны мы играли “в войну”. Когда надоедало “в белых и красных”, “в Чапаева”, играли “в русских и немцев”. Воевали. Брали в плен.
Расстреливали. Надевали на головы солдатские каски, наши и немецкие, каски валялись всюду – в лесу, на полях. Никто не хотел был немцем, из-за этого
мы даже дрались. Играли в настоящих блиндажах и окопах. Сражались на палках, бросались в рукопашную. А матери качали головами, им не нравилось. Плакали.
Мы удивлялись, потому что раньше… До войны они нас за это не ругали…»
Валя Бринская, 12 лет
«…Мы говорили о войне мало. У нас с сестрой единственное, что осталось от войны, – покупали куклы.
Я не знаю, почему. Оттого, наверное, что нам не хватило детства. Детской радости. Особенно страдала сестра, она была младше.
Училась я в институте, сестра знала, лучший подарок для меня – кукла. У сестры родилась дочь, я приехала к ним:
– Что тебе подарить?
– Куклу…
– Я спрашиваю, что тебе подарить, а не твоей девочке.
– Я отвечаю – подари мне куклу.
Росли наши дети – мы дарили им куклы. Мы всем дарили куклы, всем нашим знакомым.»
 



Дима Суфранков, 5 лет:
"После войны я боялся железа. Лежит осколок, а у меня страх, что он еще раз взорвется.
Соседская девочка – три года и два месяца… Я запомнил… Мама ее над гробом повторяла: «Три года и два месяца…
Три года и два месяца…» Она нашла «лимонку»… И стала качать, как куклу… В тряпки завернула и качает.
Граната маленькая, как игрушка, только тяжелая. Мать добежать не успела… После войны в нашей деревне Старые Головчицы
Петриковского района еще два года хоронили детей. Военное железо валялось всюду. Подбитые черные танки, бронетранспортеры.
Куски мин, бомб… А у нас же игрушек не было… Потом его начали собирать и отправлять куда-то на заводы. Мама объяснила, что
из этого железа начнут отливать трактора. Станки, швейные машинки… Если я видел новый трактор, я не подходил к нему, ждал,
что он взорвется. И станет черным, как танк…
Я знал, из какого он железа… "
Виктор Лещинский:
« …Кончилась война, у нас ни отца, ни дома. Мне одиннадцать лет, я самый старший в семье. Еще двое – братик и сестра,
те маленькие.
Взяла мама ссуду. Купили старую хату, там была такая крыша, что если шел дождь, спрятаться негде, везде текло. Пробивалась вода.
В одиннадцать лет я сам осаживал окна, перекрывал крышу соломой.Строил сарай… Как? Первое бревно закатил и положил сам, второе – мама помогла.
А выше нам уже одним поднять не под силу.
Делал я так: обтешу бревно на земле, зарублю угол и жду, когда будут женщины идти на работу в поле. Утром они разом вцепятся и одно бревно поднимут,
я его подточу и опущу в угол. До вечера еще одно обтешу… Они идут вечером с работы, поднимут… И стеночка растет…
В деревне семьдесят дворов, и всего двое мужчин с фронта вернулись. Один – на костылях. “Детка! Моя ты детка!” – голосила надо мной мама.
Я где сяду вечером, там и засну.
Разве мы – дети? Мы были мужчинами и женщинами…»
Тамара Пархимович, 7 лет:
«Всю войну я думала о маме. Маму я потеряла в первые дни… Кто-то мне сказал, что видел мою маму – убитую.
И тут у меня провал в памяти… Как мы доехали до Пензы – не помню, как меня привезли в детдом – не помню… Чистые страницы в памяти…
Помню только, что нас было много, спали по двое на одной кровати. Если одна заплакала, то и другая плачет: “Мама! Где моя мама?”
Я была маленькая, меня хотела удочерить одна нянечка. А я думала о маме…
Иду из столовой, дети все кричат: “Приехала твоя мама!” У меня в ушах: “Твоя ма-а-а-ма… Твоя ма-а-а-ма…” Мама мне снилась каждую ночь.
Моя настоящая мама.
И вдруг она наяву, но мне казалось, что это во сне. Вижу – мама! И не верю. Несколько дней меня уговаривали, а я боялась к маме подходить.
Вдруг это сон? Сон!! Мама плачет, а я кричу: “Не подходи! Мою маму убили”.
Я боялась… Я боялась поверить в свое счастье… Я и сейчас. Всю жизнь плачу в счастливые моменты своей жизни. Обливаюсь слезами. Всю жизнь…
Мой муж… Мы живем с ним в любви много лет. Когда он сделал мне предложение: “Я тебя люблю. Давай поженимся”… Я – в слезы…
Он испугался: “Я тебя обидел?” – “Нет! Нет! Я – счастливая!”
Но я никогда не могу быть до конца счастливой. Совсем счастливой. Не получается у меня счастье. Боюсь счастья.
Мне всегда кажется, что оно вот-вот кончится. Во мне всегда живет это “вот-вот”. Детский страх…»
Таиса Насветникова, 7 лет:
«...Я– счастливый человек, у меня вернулся с войны папа.
Папа привез красивые детские игрушки. Игрушки были немецкие. Я не могла понять, как могут быть такие красивые игрушки немецкими…
С папой я тоже попробовала заговорить о смерти. О бомбежках, когда мы с мамой эвакуировались… Как вдоль дороги по обе стороны лежали
мертвые наши солдаты. Лица их были прикрыты ветками. Над ними жужжали мухи… Полчища мух… О мертвом немце… Рассказала про папу моей
подружки, который вернулся с войны и через несколько дней умер. Умер от болезни сердца. Никто не мог сообразить: как можно умереть
после войны, когда все счастливы? Папа молчал…» Валя Бринская, 12 лет:
«Папу ждали несколько недель. Мама достала из чемодана наше заветное… крепдешиновое платье и туфли.
У нас был уговор – не продавать это платье и туфли, как бы ни было трудно. Из суеверия. Боялись: если мы их продадим, то папа не
вернется.Слышу через окно папин голос и не могу поверить: неужели это папа? Не верилось, что я могу увидеть папу, мы привыкли его ждать.
Для нас давно папа был тем, кого надо ждать и только ждать. В школе в тот день сорвались занятия – все пришли посмотреть на нашего папу.
Это был первый папа, который приехал с войны. Еще два дня мы с сестрой не занимались, к нам без конца подходили, расспрашивали,
писали записочки: “Какой папа?..” А папа у нас особенный – кавалер ордена Ленина, Герой Советского Союза – Антон Петрович Бринский…
Папа, как когда-то наш Толик, не хотел быть один. Не мог. Ему было плохо одному. Он всюду таскал меня за собой. Однажды я услышала…
Он рассказывал кому-то, как партизаны подошли к деревне и увидели много свежей, вскопанной земли… Остановились… Стоят на ней…
А через поле бежит мальчик и кричит, что тут расстреляли их деревню и закопали… Всех людей…
Папа оглянулся, видит – я падаю. Больше он никогда при нас о войне не рассказывал…»  



Арсений Гутин, 1941 года рождения:
«В День Победы мне исполнилось четыре года…
С утра я стал всем говорить, что мне уже пять лет. Не пятый год, а пять лет. Хотел быть большим.
Папа вернется с войны, а я уже большой.Председатель в этот день созвал женщин: “Победа!” Поцеловал всех. Каждую.
Я был с мамой… Радовался. А мама плакала.
Собрались все дети… За деревней колеса резиновые от немецких машин подожгли. Кричали: “Ура! Ур-ра! Победа!”
Били в немецкие каски, которые перед этим насобирали в лесу. Били, как в барабаны.
Жили мы в землянке… Я прибежал в землянку… Мама плачет. Я не понимал, почему она плачет, а не радуется в такой день.
Начался дождь, я сломал прутик и мерил лужи возле нашей землянки.
– Что ты делаешь? – спрашивали меня.
– Меряю – глубокая ли ямка? А то папка будет идти к нам и провалится.
Соседи плачут, и мама плачет. Я же не понимал, что это такое “пропал без вести”.
Я долго ждал папку. Всю мою жизнь…» «Война началась, мы были еще дети — тринадцать-четырнадцать лет. Кончилась война, мы уже взрослые — семнадцать-восемнадцать лет.
Надо идти работать, руками, по кирпичику собирать разбитый город. На свидания бегать нам не к кому. Наши женихи погибли…
Они по возрасту как раз под войну успели — кто на начало, кто на конец. Ни детства, ни юности у нас не было.
Мне кажется, я всегда была взрослая, всегда делала только взрослую работу…» «…Мы говорили о войне мало. Папа с мамой были убеждены, что такой страшной войны больше никогда не будет. Они долго в это верили....
Первой не стало нашей изумительной мамы, потом не стало нашего папы. Мы ощутили, сразу почувствовали, что мы – последние. У той черты…
У того края… Мы – последние свидетели. Наше время кончается. Мы должны говорить…
Мы думали, что наши слова будут последними…» Источник: книга С.Алексиевич «Последние свидетели: сто недетских колыбельных.»  


|