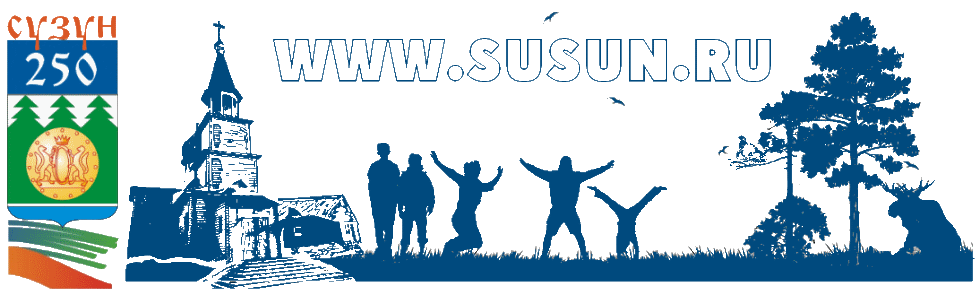
| Сузун. Сузунский район. | |||
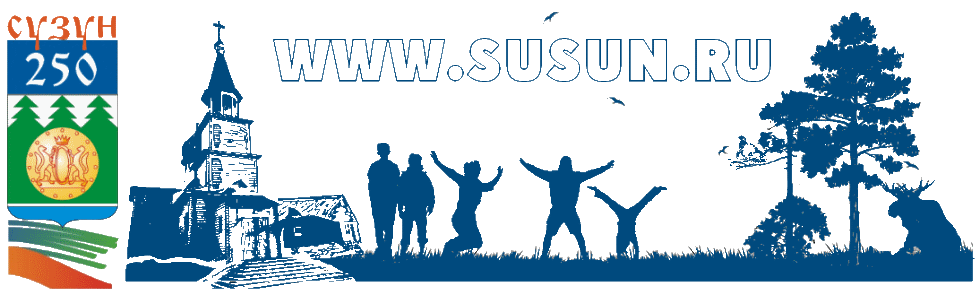
|
|||
| Форум | | Фотоальбомы | |
|
||||||
|
Разделы:
- Да святится имя Твоё.
- Из истории сузунского госпиталя. - Казенная библиотека Нижне-Сузунской конторы. - Купеческая знать Завод-Сузуна. - Экскурсии и смотрины. - Курганы.Что это такое и что в них находится? - Первая школа горнозаводского поселка. - Чудеса инженерной мысли — у нас под ногами! - История сузунской плотины и шлюзов. - Фенглер,сузунское сельпо и люди послевоенного Сузуна на старых фото. - Шангины - семейство первопроходцев. - Чай, не лаптем щи хлебаем ! - Во имя Вознесения Господня. Четыре проекта сузунского храма.
|
Сузунская миллионщина.
Редактор: cepbiu
На учебном плацу, напротив главных ворот, под дробь барабана маршировали солдаты охранной команды. Командовали ими два горластых унтера. Чуть поодаль верхом на вороной кобылице гарцевал молоденький подпоручик, он то и дело покрикивал на унтер-офицеров. Глава II Теперь выходило, что управляющий и его супруга должны принимать у себя в доме не одного важного постояльца, а сразу двух: петербургского курьера и персидского купца. По этой причине в доме затеяли спешное переустройство, которое не коснулось только домашнего кабинета майора, гостиной и спальни. В остальных четырех комнатах переставлялась и добавлялась мебель. В денщицкой, где должен был квартировать персианин, стены заново оклеивались шпалерами, подбеливались потолки. Две бабы из Барабинской слободки мыли окна и полы. Протапливался и приводился в жилой порядок летний флигель — пристанище для челяди персидского гостя. Хозяева предусмотрительно решили освободить один амбар под товары иноземного купца. Словом, хлопот для одного дня оказалось очень много. Меблировка и порядок, которые здесь содержались, свидетельствовали о непривередливом, но изящном вкусе н знатном воспитании хозяина. Ничего показного, как у тщеславных баричей, которые только стараются выглядеть занятыми людьми, а на деле предаются у себя в кабинетах праздной лени, уединяясь от домочадцев. Вдоль всей внутренней стены тянулись застекленные книжные шкафы. В них хранились книги на четырех европейских языках: хозяин, кроме русского, бегло читал по-немецки, французски и английски. Деловые инженерные книги были на немецком и английском языках. На французском — десятка два-три занимательных романов, которые когда-то с переводом на русский, он читал вслух жене и детям. Но с тех пор как сыновья повзрослели и уехали в Петербург на учебу, он ни разу не брался за них. В простенке между окнами, выходящими к заводской крепости, висел написанный маслом портрет Петра Великого в тяжелой багетовой раме с позолотою. Царь был изображен в блестящих железных латах. Взор его горел живым нетерпением, усы нервно топорщились над плотно сомкнутым ртом. Майор Соколовский не случайно повесил в кабинете портрет великого царя-реформатора. Весь лик изображал неукротимую энергию. В железных латах, а не в пышном одеянии, он выглядел старомодно, однако металл на царской фигуре, по мнению хозяина, олицетворял прогресс России и духовное родство великого царя с деяниями инженеров горного корпуса. Сегодня Наркису Александровичу заснуть никак не удавалось, одолевалн заботы. Он только лежал с закрытыми глазами. Поэтому, когда в кабинет неслышно вошла его супруга Мария Павловна и присела в изголовье, он тотчас же открыл глаза. Мария Павловна погладила его по волосам, он поймал руку жены и поднес к губам. — Вставай, Наркис, пора,— мягко сказала Мария Павловна — Вот письмо от отца Василия. «Милостивый государь Наркис Александрович! Наркис Александрович закончил чтение и, глядя в письмо, задумчиво сказал: —Вот так-то, Машенька. Вот и явился долгожданный праздничек... Наркис Александрович легко встал с дивана, взял со спинки кресла мундир. Мария Павловна продолжала сидеть, давая тем самым понять, что разговор не закончен. —Бог с ними, с миллионами,— сказала она,— кроме денег существуют еще христианские добродетели, а мы о них, случается, забываем. Мария Павловна напоминала мужу свою просьбу относительно прачки, которая работала у них в доме. Была она вдовой с тремя малолетними ребятишками. Муж ее служил подручным литейного мастера и помер от чахотки в позапрошлом году. И теперь Мария Павловна почитала своим христианским долгом заботу о новом семейном устройстве своей домработницы и ее малых деток. —Я, Машенька, не совсем уверен в скором успехе этого предприятия. Вдовцов-то неженатых на заводе нету. Но я позабочусь. Сегодня же позабочусь... А сейчас надобно ответить отцу Василию. СОБРАНИЕ ГОСПОД ОФИЦЕРОВ — Господин подпоручик, я наблюдал вашу солдатскую муштру. Вы делаете успехи. Я очень рад за вас... —Итак, господа офицеры! Я созвал вас сегодня но делу не весьма обычному, которое случается... Нет, нет! Надобно сказать точнее. По делу, которое дарует гистория один раз в сто лет. Нам предписано отпраздновать вековой юбилей Алтайского горного округа... Складывалась выгодная ситуация: майор Соколовский вынужден был говорить прописную истину как бы не по своей воле, а потому, что его понуждали к этому другие. —Вы совершенно правы, Фрол Романович. Но то был другой юбилей. То праздновали сто лет со времени учреждения на Алтае первых горных заводов. Еще в царствовании великого государя Петра Первого на Алтай явились пришлые рудознатцы Акинфия Демидова. Построили тогда на Змеиной горе первую плавильную печь. По горе и звалась та фабрика Змеиногорской, а по озеру — Колыванской. И вырабатывали из медной руды не медь, а серебро и золото. А медь за ненадобностью вместе с шихтой выбрасывали в отвалы. В тысяча семьсот сорок седьмом году Акинфий Демидов помер. И с тех пор вот уже сто лет все Алтайские заводы Демидова состоят в собственности царской семьи. Вот это-то столетие мы и празднуем теперь, Фрол Романович... Но штабс-капитан Малеев уже не слушал объяснений господина управляющего — дремал. Стариковская сонливость делала свое каверзное дело. Ночью, когда можно и должно спать, этот проклятый сон никак не идет, всеми святыми не дозовешься. Днем же, когда чиновнику надобно бодрствовать, сморивает у всех на виду, всесильно заставляет «клевать», вызывая ехидные усмешки. — Этот нынешний юбилей, господа, обещает быть особливым,— продолжал управляющий.— Я с часа на час ожидаю из Петербурга гонца... Однако ежели петербургский гонец и не явится, то юбилейные торжества от этого не сделаются менее значительными... И майор Соколовский стал излагать, как он мыслит себе празднества но случаю 100-летиего юбилея Алтайских горных заводов. Он уведомил, что отец Василий получил из Барнаульского церковного правления предписание о торжественном богослужении, которое состоится 6 декабря, в день Николы-чудотворца. День этот объявляется всеобщим гульным днем для всех чинов монетного двора и литейной фабрики. После этого совещания они с приставом пойдут в исправительную казарму, чтобы учинить амнистию арестантам... — Агап Прокопьевич, сколько у нас нынче арестантов под стражей? Отпустив подчиненных ему офицеров, майор Соколовский снова впал в задумчивость. Последнее время его все чаще одолевали тревожные предчувствия неблагоприятных перемен — то ли в судьбе руководимого им предприятия, то ли в судьбе его самого и семьи. Вот он только что объявил, что с часу на час ждет из Петербурга специального курьера — с вестями от самого царя. Какими они будут, эти вести? Добрыми, дурными ли? Не начнут ли сбываться самые тайные его опасения, с которыми он и поделиться-то ни с кем не имеет права, даже с любимой супругой Марией Павловной... От сибирских денег ломятся уже все казначейства, их некуда девать. На Урале, в Екатеринбурге монетный двор подвергается реконструкции и скоро начнет чеканить легкую монету: из пуда меди — тридцать два рубля. Не будет ли чреват приезд царского посланника неприятностями именно в этом направлении? О-хо-хо... Почему человек лишен возможности заглянуть наперед даже на малый срок? Остается лишь ждать, томиться и подгонять время... Глава IV ЕГОРША ТАРАКАНЬИ МОЩИ Едва клочковатое мутное небо потемнело от ранних декабрьских сумерек, на заводской каланче звонарь пробил пять часов. Басовито и тягуче проплыл над вечерним Завод-Сузуном медный звон. Набатные удары разошлись над поселением, как круги по стоячей воде, нисколько не потревожив глубинную неподвижность жизни обитателей завода. Последним из крепостных ворот валкой походкой вышел мужик, приметный своей необыкновенной худобой. О таких говорят: «Кожа да кости, в чем только душа держится». Поравнявшись с караульным солдатом, мужин не пошел дальше, а остановился на развилке дорог и, обращаясь к часовому, сказал сиплым голосом: —Дозволь-ка, служылый, вольным воздухом подышать. Бергал не ответил на предупредительные слова солдата, а только пробурчал про себя что-то злое и скверное. Однако и прятаться за крепостной стеной не стал, остался стоять за воротами, обратив свой взор вдоль крепостной стены, в сторону Богатой слободки, где на горе возвышалась златоглавая церковь. Глаза его глубоко ввалились, челюсти были сведены, будто слесарные тисы, губ не было видно совсем. Живость тощей его физиономии придавали кустистые черные усы, которые он не закручивал, как большинство заводских мужиков, а, наоборот, мохрил по-кошачьи. На тощей шее выпирал здоровенный кадык, величиною с куриное яйцо. Ниже кадыка, там, где шея соединялась с грудью, образовалась глубокая впадина. Волосатую грудь он держал нараспашку. Оттого ли, что ему все еще было жарко от плавильной печи или он выказывал таким способом свою удаль и лихость,— неведомо было. Старый, латаный-перелатаниый азям висел на его тощей фигуре, как ремье на огородном пугале. Мужик был пришлый, не сузунский. Года два назад препроводило его начальство на медеплавильную фабрику из горного округа. Никто и ничего не знал о его роде-племени, да и сам он о себе никогда не рассказывал. Квартировал он у монетного караульщика Ивана Моргуна, который тоже был безродным и потому с охотою принял к себе постояльца. Караульный солдат пугал Егоршу Таракана смотрителем по той причине, что был Егорша арестантом, отбывал трехмесячную отсидку в исправительной казарме. Располагалась казарма в самом дальнем, северном углу крепости и находилась под охраной. Арестанты днями отрабатывали свой сменный повыток на рабочих местах, как и все прочие мастеровые. А на ночь их водворяли в камеру, где они сидели под замком. За самовольную же отлучку арестантов пороли розгами. Смотритель собственной властью имел право назначать до 25 ударов. Егорша Таракан был посажен в исправительную казарму около двух месяцев тому назад за учинение «тихого бунта». В казенных бумагах «тихим бунтом» было названо событие, которое сделалось известным горнозаводскому начальству этим летом. Никто, кроме господина управляющего и пристава, не знает, кому первому пришла в голову мысль произвести сверку церковных книг, где было записано время рождения горнозаводских мужиков, с заводскими формулярами. Такая ревизия возрасту бергалов была совершена не только на Завод-Сузуне, но и на всех других рудниках и заводах горного округа. А за одно и во всех церковных приходах. Вследствие этой обширной ревизии начальство узнало столь важную и неожиданную истину, об открытии каковой не мог помышлять даже самый преданный чиновник. Рабочие монетного двора и литейной фабрики почти поголовно значились в формулярных списках старше своих настоящих лет. Это-то и было названо в бумагах «тихим бунтом». Расхождения между церковными книгами и заводскими фомулярами, которые заполнялись со слов самих бергалов, были самые разные. Большинство мужиков прибавило себе, по году, по два. Но были и такие, которые покусились на три-четыре года и даже больше. А Егорша Таракан, настоящая фамилия которого была Таскаев, дерзостью своей превзошел всех прочих приписчиков возраста: прибавил себе целых десять годов. Значился он в казенных бумагах стариком 55 лет от роду, и скоро собирался хлопотать об освобождении по болезням и старости. Как он потрафил такую большую аферу — дознаться начальству не удалось. На допросах, кои велись с пристрастием, Егорша упрямо запирался. Однако в старом формулярном списке была обнаружена еле видимая подчистка, из чего следовало заключение, что Егорша подкупил низшего чиновника. На допросе он своего сообщника не назвал, чем усугубил тяжесть наказания. Земский суд определил ему 1500 ударов шпицрутенами. На первый взгляд бунтарство бергалов и приписных крестьян казалось совершенно бессмысленным: служба-то на царевых заводах бессрочная, до самой смерти. Однако — бунтовали! И не только «тихо», но и по-всякому. Порка «тихих бунтарей» в Завод-Сузуне для всеобщей острастки была учинена публично на базарной площади, при большом стечении народа. Больше всех досталось шпицрутенов Егорше. Его едва не засекли до смерти. Шесть недель отлеживался пластом в исправительной казарме, чуть богу душу не отдал. После этого он приказом начальника горного округа на три месяца был водворен под арест в ту же исправительную казарму, где пребывает и поныне. Стоит он у заводских ворот при дороге — живой. За спиной у него солдат. Лютым волком на мир божий смотрит Егорша Таракан, но глаза прячет. До поры до времени... — Таракан! Будя прохлаждаться! Подь в казарму! — строго приказал солдат. Часовой водворил арестанта в крепость, вскинул ружье на плечо и, как маятник ленивых гостиных часов, стал маячить около главных крепостных ворот. Глава V МОНЕТНЫЕ БЕРГАЛЫ Караульщик Иван Исаков, известный в миру по прозвищу Моргун, нес службу на монетном дворе, в кожухе. Кожухом называли машинное отделение, где помещались водоналивные колеса, приводящие в движение плющильные станы и чеканные станки. Располагался кожух за главным корпусом денежной фабрики, в особой пристройке, и примыкал к его задней стене, Монетный двор и литейная фабрика начинают и кончают работу в одно время. Отбрякает караульщик у ворот в медную доску пять раз — вот и пересмена. Да только монетный двор выпускает своих бергалов позже остальных на целых полчаса: на литейной фабрике нет никаких обысков, а деньгоделателей, прежде чем выпустить за ворота, подвергают двойному обысканию. Первый досмотр называют малым или наружным. Его учиняют при выходе из отделений — караульщики ощупывают и оглядывают одежонку и обувку. Иван Моргун хоть и караульщик, по проходить через обыскательную избу может первым: в кожухе у него нету мастеровых и обыскивать ему некого. Однако он никогда не торопится уходить, дожидается закадычного дружка Игната Ехета, чтобы вместе идти домой. Игнаха робит за стеной кожуха, в плющильне. Он там за старшего и потому всегда замыкает в обыскательной избе свою сменную артель. Моргун, насидевшись за полсуток в одиночестве, радуется встрече с другом, выходит к нему из кожуха всякий раз с одним и тем же излюбленным приветом: — Христос те навстречу, Игнаха! От кожуха до обыскательной избы — десять шагов, много не наговоришь. Мужики на ходу расстегиваются, рассупонивают сыромятные ремни на портах, чтобы в обыскаловке терять меньше времени. Там их разоблачают донага, как в бане. Орудуют на обыске два караульщика-обыскателя. Они в своем деле насобачились, обувку и одежонку стягивают, будто шкурку с белки. Глазом моргнуть не успеешь — уже голый. А в другой раз, когда что-то вызывает их подозрение, то и в рот заглядывают — не положил ли под язык либо за щеку деньгу, а то и наклониться велят: может, в срамное место пятак запихал. Игнаха выходит из обыскателыюй избы первым. Ступив с крыльца на землю, он неспешно поворачивается в сторону Богатой слободки и старательно крестится на златоглавую церковь. Помолившись, надевает шапку , сделав несколько шагов, стоит — ждет, когда выйдет Моргун. В обличий Игнатия Ехета и Ивана Моргуна много схожего. Оба роста небольшого, оба кряжистые, как сутунки, и силой тот и другой дюжие. У Игнахи, правда, руки длиннее, до самых колен. Зато Моргун с молодости был много проворнее, увертливей, побороть его редко кому удавалось. Бывало, как ни бросят, а он все на ногах, будто кошка. За многие годы все меж ними говорено и переговорено на сто рядов, и жизнь весьма скудная, один день похож на другой. Однако, и при скудости жизни предметы для разговоров находятся. — Не ко времени,— неспешно отзывается Игнатий. — Ет уж так, Игнаха. Ежли бор шумит, к оттепели,— продолжает Моргун.— Вот молчал бы он, бор, натца, тада б мороз. А так — нет, к оттепели. Ет не нами, ишшо стариками примечено: шумит, выходит, к оттепели. — Оттого, видно, в суставах ломота. — А от чего ишшо ей быть-та? К перемене погоды, натца, ет уж так— Баньку истопить надоть. Косточки попарить. Глядишь, полегчат. — Моим косточкам банька, натца, уже ие пособит.— В голосе Моргуна послышалась тоскливая жалоба. — Штой-та так? — удивился Игнатий. — Да помирать пора. Помирать... Игнатий посмотрел на Моргуна так пристально, будто не видел его многое время. — Хватит уж белый свет коптить,— неопределенно ответил Моргун.— Знак мне давеча был: старуха моя во сне являлась. Тянется руками и говорит этак ласково, мол, стосковалась я с детками по тебе, отец, долго штой-то не идешь к нам. — Так н сказала? — усомнился Игнатий. — Натурально... — А те не поблазнилось? — Так ведь то ж сон, Игнаха, чему там блазниться-та? Сон и сам заместо виденья. Игнатий ничего не ответил Моргуну на его рассуждения, которые показались ему не очень ясными, и, дабы не ввязываться в путаные мысли, предложил: — И так уж молюсь. Однако сумлеваюсь, не надоели бы мои молитвы-та господу богу. — Вот эт ты заздря! Молитвой бога не прогневишь, ехетство с мошенством... Необычная поговорка эта — «ехетство с мошенством» — давно пристала к мужикам колокольцовского семейства. Первым в словесный обиход взял ее дед Митроха, отец Игнатия. Что обозначало это закондыристое словцо «ехетство» и почему оно соединялось с «мошенством»,— этого сам дед Митроха объяснить не смог бы. Да объяснений на этот счет и не требовалось: все в Завод-Сузуне давно уже привыкли к этим непонятным словесам и прозывали Колокольцовых — Ехетами. Глава VI В нетопленой холодной избенке Моргуна безлюдно — ни одной родной души. Бобыль и есть бобыль, вдовец. Вся живность, какая водится у него в хозяйстве,— кот да две курчонки с петухом. Но и эта божья тварь ждет хозяина, рада его появлению. Едва перестудил Моргун порог,— под шестком куры затревожились, есть-пить просит. Кот с нетопленой печи спрыгнул, трется об ноги, по ласке стосковался. Курчонок-то, по-хорошему, давно бы зарубить надо на похлебку: старые они, сколько уже лет не несутся. Но рубить жалко. Петуха он держит заместо часов, чтобы кукарекал да о времени длинными зимними ночами извещал, все веселее. А без куриц как одному петуху жить? Чего доброго, от одиночества петь перестанет. Вот и не решается Моргун пустить яловых куриц под топор — пусть здравствуют с петухом совместной жизнью. За день изба совсем выстыла. И хотя на улице тепло, крошечные одинарные оконца из налимьих пузырей куржаком покрылись. Стоят белесые, как мертвые бельма. Через них не разглядишь ничего, кроме мутного света. Первым делом взялся Моргун растапливать печь. Раскопал клюкой загнетку, но ни одного горячего уголька не нашел — все в труху перегорели. Принялся добывать огонек кресалом. Приставил тлеющий трут — вареную березовую губку — к угольку и стал помаленьку раздувать его. Огонек с трута перелез на уголь. Моргун подложил еще несколько угольков и стал дуть на них смелее. Потом к углям поднес лоскуток бересты. Пока ходил по воду, у печки сделалось и светло, и тепло. Скинул он драную шубейку, повернулся к печи спиной — и — А ты, Василь Котофеевич, ужо обожди,— начал пустословить Моргун с котом, который сидел на лавке и жмурился от яркого огня.— Вот сварится кашка, тады и мы с тобой вечерять станем. Добыл ухватом из печи щербатый чучунок с кипящей водой, сыпнул большую жменю пшена, бросил щепоть соли и, прошептав имя божье, сунул чугунок обратно в огненную печь — варись, каша. — А таперича, натца, мы с тобой и сальца в кашку покрошим. Так, что ль? День-та, кажись, сёдни мясоед? А? Чо молчишь-га? Хошь сала, а, Василь Котофеевич? Вижу, хошь сала, хошь. Небось к постной-та курячьей еде не льнешь, варнак ты этакий... Пока Моргун грелся у печи да суесловил с котом, дрова в печи стали прогорать. Надо было зажигать каганец либо лучину, в-потемках какая еда? Мимо рта ложку, конечно, не пронесешь, однако при свете привычнее, Ко всему дана человеку привычка, и он, Моргун, живет на этой земле тоже по привычке, ибо так заведено. Ежели бы можно было помереть по своему хотению, так давно бы помер с радостью и охотой. Обрыдла Моргуну жизнь на белом свете, надоела хуже горькой редьки. Столько горя мыкал он в своей жизни, столько мук принял, что давно заслужил себе покой и вечное счастье на том свете. О этой мыслью недели три тому назад затеял он важное дело: начал мастерить себе гроб. Долбленый, из лиственничного комля. Настоящая будет домовина. Бренное тело уляжется в ней удобно, покойно. Уже полностью выдолбил внутреннюю полость, осталось только подчистить. Правда, на примерку еще не ложился, но по расчетам все должно определиться в самый аккурат. А ежели узковато или коротковато, то и поддолбить можно: лиственница взята с запасом. — Благослови, господи, и помоги мне, грешному, совершить начинаемое мною дело во славу твою.— Подумал и, жмурясь всем лицом на иконы, добавил от себя: — Помоги домовину изладить. Наши-то плотницкие мастера больно уж плохие казенные гробы робят беднякам да сиротам... Работенки-та с домовиной осталось совсем немного. Недели на три-четыре. Излажу, натца, тады и прибери меня, господи... Встав с молитвы, Моргун с великой натугой выдвинул из-под кровати недоделанную домовину, которую прятал туда на случай, ежели наведается какой-нибудь незваный гость. Еле-еле взгромоздил ее на стол. Перевел дух. Скинул с ног драные пимы и, перекрестившись на закопченные иконы, полез в сладко пахнущий смолевой гроб — на примерку. Глава VII Непочатая сальная свечка, зажженная с вечера на столе перед смотрителем: исправительной казармы, без малого совсем сгорела. Оплывший крохотный огарок торчал из подсвечника уродливым кукишем, будто нарочно дразнил унтер-шихтмейстера Тихобоева. Глядя на горючие восковые слезы, унтер исходил лютой злобой к каналье-арестанту. Это он, Ванька Бархатов, все еще не вернулся в исправительную казарму, чем и обвиноватился перед смотрителем за перерасход светильных припасов. «Ну, погоди ты у меня, протчий ты куцый огузок! Вот ужо я тебя...» Перед грозным смотрителем на арестантской книге лежала бумага относительно его, Ивана Бархатова дела. Унтер давно знал эту бумагу чуть не наизусть, но от вынужденного бездействия сызнова проходился глазами по писанине: О Сузунского Завода рудовозе Иване Бархатове. Достоверность сего происшествия 17 человек засвидетельствовали собственноручно наложением крестов вместо подписи, с приложением печати волостным старостою. А по сему Алтайское горное правление решило: Сия всесильная бумага была весьма исправно оглашена во всех деревнях, приписанных к горным заводам, и селяне все поголовно знали: заводской повыток хоть помри, а исполни. Ванька Бархатов тоже все это знал твердо, однако нарушил волю начальства и по выписке из госпиталя прямой дорогой отправился к себе в Чингисы, к семейству. Дома, одна баба с ребятишками надрывалась в хозяйстве, надо было хоть маленько пособить по домашности. Думал, успеет хозяйствишко поправить, сенца привезет, дровишек попилит. Однако не успел. Через неделю взяли его из дома и под конвоем препроводили в Завод-Сузун. А здесь за самоуправство на два месяца отсидки посадили в исправительную казарму. По сей день и отбывает он свой срок, возит на завод уголек на казенных лошадках. И за это благодарит бога: начальство могло приневолить на своем тягле отрабатывать повыток. Тогда бабе с ребятишками вовсе было бы невмоготу, хоть ложись да помирай. На себе дров и сена не навозишь! ...Смотритель уже несколько раз снимал с оплывшейсвечи нагар. Свеча убывала прямо на глазах, а арестант в казарму все не являлся. Унтер-шихтмейстер от скуки вдруг захотел увидеть наличного арестанта Егоршу Таскаева, который, по докладу старосты, был «тутака на нарах». Унтер посмотрел в потемки, отыскивая глазами своего помощника, но никого не увидел. — Староста, где ты есть? — Тута я. , — Позови-ка ко мне арестанта Егора Таскаева. — Чичас. На двери камеры загремел железный запор, ржаво, по-амбарному, проскрипела дверь. Слышно было, как староста тормошил арестанта, навеличивая его скотиной. Перед смотрителем исправительной казармы предстал заспанный Егорша Таракан. Облачен он был в грязное рубище. Длинная рубаха доходила до колен. Из-под рубахи торчали чамбары неизвестного цвета. Мосластые босые ноги стояли широко, будто перед кулачным боем. Попав из темноты на свет, арестант щурился и прятал заспанные глаза. — Здравия желаем, осподин смотритель! — Голос у тощего арестанта был басистый и твердый и не соответствовал тщедушной комплекции хозяина. Унтер-шихтмейстер не ответил на приветствие, а спросил с пристрастием: — Кто спать дозволил, спрашиваю? Переклички-та ишшо, кажись, не было? — Кила, осподин смотритель, разболелась — спасу нет. — Ты мне своей килой и протчим зубы не заговаривай. Кто, говорю, дозволил спать в неозначенное время? А? — Ежели не веришь, можешь самолично пошупать,— и арестант полез рукой в чамбары. — Я те пошшупаю! Ввалю двадцать пять горячих, зараз кила на место встанет! И протчим закажешь. — Воля твоя, осподин смотритель. Было бы за что.— Арестант держался с унтером Тихобоевым хотя и не дерзко, но независимо. — Найдем за что, протчий ты человек! — угрожающе пообещал смотритель, но предмет разговора переменил.— Ты вот лучше скажи-ка, где таперича арестант Иван Бархатов. А разговоров каких про между вас не было? Противозаконных... Арестант понял тревогу смотрителя, убежденно перекрестился: — Господь с тобой! Это ты насчет того, чтобы в бега? Так нет, будь покоен. Никуды Ваныпа Бархатов не побежит. — А ты откель знаешь? — Знаю. От свово дома и собака далеко не бегат. В темных хмурых глазах Егорши Таракана блеснули лукавые огоньки, и Егорша сказал, широко и звучно зевая: Упоминание арестантом в праздном разговоре царской персоны показалось унтер-шихтмейстеру недозволенным, и он, не повышая голоса, скомандовал: — Прекратить протчие разговоры! Смотритель страсть как любил употреблять слово «прочее», переиначенное на свой манер. Ему казалось, что, вставляя это книжное словцо, он становится в глазах «протчего народа» человеком образованным и значительным, чуть ли не наравне с господами офицерами. — Староста, препроводи арестанта в камеру! Злой блуждающий взгляд унтера Тихобоева снова наткнулся на свечу — совсем догорела! Смотрителю до того сделалось жалко свечки, что хоть матерно ругайся. Только поставил, думал — до Николы хватит, а спалил за один вечер и без толку. И все из-за этого поганца Ваньки Бархатова. Скоро в штрафной книге появилась запись: Приняв решение об экзекуции и совершив надлежащую запись, унтер Тихобоев сызнова позвал старосту: — Распарь-ка розги... Староста, не оболакаясь, вышел в сени и скоро принес из холодной кладовки пару таловых прутьев. Придавив прутья ногой, обрезал единственной рукой топкие концы. Потом примерил розги по своему росту и, открыв железную заслонку, сунул их вершинами в чугунок — распариваться. ...Арестант Ваныпа Бархатов вернулся в исправительную казарму только в девятом часу вечера. Измученный, голодный и чумазый, он был рад месту на тюремных нарах. О пустой горячей похлебке мечтал, как о райской жизни. Но едва переступил порог, сразу почуял неладное. — Не виноват, видит бог, не виноват! Вот те святой крест, паря, не виноват! Перед иконою присягну. Дозволь, осподин смотритель, пояснение сказать. Не виноват! — Говори, протчий ты человек,— милостиво согласился унтер-шихтмейстер, хотя заранее знал: все, что скажет арестант, ровно никакого значения не имеет. Сечь он его будет все равно, экзекуция-то уже занесена в книгу. Арестант слегка осмелел и стал объясняться как можно обстоятельнее: — Ну, давай-давай, што там было далека? — А дале было так, осподин ундер. Выехал я, паря, в урман, а сам соображаю себе: пронесет аль не пронесет. Ну, доехал до угольной кучи, ничаво, пронесло. Набросал в коробок уголька. А тем временем, сказать, уже смеркаться стало. Ну, я возвертаться начал, и тут беда — заворка лопнула. Оглобля оторвалась. Так оно все и было, вот тебе крест. Не пронесло, выходит. А не встреться на дороге дьячок, будь он неладен, никакого изъяну и не вышло бы. Это уж так... Речь арестанта была настолько убедительна и искренна, что не могла не подкупить своей правдивостью. Унтер-шихтмейстер молчал. И Ваныпа Бархатов уже думал, что смотритель сейчас отпустит его и разрешит — Арестант Иван Бархатов! — Слушаюсь, осподин смотритель. — Скажи-ка, Иван,-- непривычно миролюбиво начал унтер-шихтмейстер.— Кто, по-твоему, должон наблюдать порядок в санях? —Известно кто... — Вот именно, кто? На заводе общий порядок блюдет сам господин управляющий. К примеру сказать, в исправительной казарме блюсти порядок препоручено мне. А в санях? Да ты соображай, Иван, соображай. — Сказать, и так уже соображаю, паря...— Арестант снова поник, он понял, куда клонит смотритель.— Выходит, виноват я? — Правильно. Виноват. Не досмотрел — вот заворка и лопнула. И вышло опозданье, а по другому сказать, нарушенье закону. За это я обязан учинить тебе наказанье. В моем чине дозволено определять двадцать пять розг. Их ты и получишь, чтобы все по справедливости. Десять днесь и пятнадцать завтра. Разболакайся и протчее... Арестант, услышав окончательный приговор, понял, что спорить напрасно, обмяк и заплакал. Мужик сорока пяти лет от роду плакал, как маленький ребенок, не стыдился, и не прятал своих слез. — Осподин ундер,— слезно причитал Иван Бархатов.— Милостивец ты наш, ты уж сразу меня посеки, однова. Не оставляй на завтра, сделай милость, милостивец... Унтер Тихобоев самолично учинил важное нововведение в практику экзекуции, которое не было оговорено в писаных законах: телесное наказание приводилось им в исполнение не за один раз, а дробилось на мелкие порции. — Осподин смотритель, милостивец ты наш, смилуйся, посеки однова. Не оставляй на завтра... На слезную мольбу арестанта унтер Тихобоев отвечал тихим ласковым голосом: — Какой ты непонятливый, Иван. Сразу-та будет многовато, а помаленьку шкуре легше... Едва унтер-шихтмейстер занес розгу, как из камеры застучали в дверь кулаком. — Господин ундер! — сердито забасил из-за двери Егорша.— За што измываешься над человеком? — Замолчь, протчий ты человек, не тебя секут. Не встревай! — Креста на те нету - аспид! — Это что, бунт?! — вскричал унтер-шихтмейстер.— Я цареву службу сполняю, гнида ты этакая! А ты мя протчими непотребными словами срамишь? Ну, погодь!.. И он со свистом ударил розгой по голой пояснице арестанта, привязанного к скамье. Арестант судорожно вскрикнул. После совещания с господами офицерами майор Соколовский, сопровождаемый приставом, совершал предпраздничный обход монетного двора и литейной фабрики. Обход затянулся допоздна: управляющий входил во все малые подробности охранной службы. Гиттенфельвальтер... Продолжение следует.
Оценка посетителей сайта: 9.00 (проголосовало: 1) Версия для печати ---> Версия для печати
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии или открывать новые темы. Зарегистрироваться вы можете перейдя по адресу: http://www.susun.ru/register |